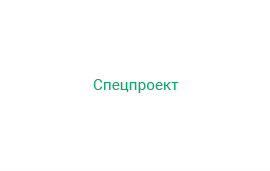Александр Олешко рассказал, как изменился до неузнаваемости для роли Павла Первого
20:23 28/08/2023Судьбологический перекресток, новый шаг в творческой жизни, движение в сторону себя – так характеризует значение главной роли в спектакле «Павел Первый» заслуженный артист России Александр Олешко. Почему был сделан такой выбор? Была ли ожидаемой реакция публики? Как актеру удалось изменить свое лицо до неузнаваемости? В чем отличие роли в театре и в кино? Об этом актер рассказал в программе «Культ личности» на телеканале «МИР 24».
Когда я узнал, что вы будете играть Павла Первого в спектакле по пьесе Мережковского в театре Вахтангова, то был очень удивлен. Что это за история, как она возникла, кому пришла в голову идея и насколько вы сомневались? Как шел выпуск этого спектакля?
- Выпуск шел тяжело, но интересно. Я изначально хотел, чтобы был удар, начиная с афиш. Чтобы у всех были оскомина и кривое лицо: «Что? Это он? Играет Павла Первого? Там вообще что ли с ума сошли?» И эта реакция, естественно, была практически у всех, кто увидел эту афишу. Мне было очень приятно и радостно, что люди пришли с таким предубеждением, и я его принимаю совершенно спокойно. Где-то через 5-10 минут от начала спектакля уже забывали об этом.
Вот я хотел, чтобы был такой эффект, но не ради какого-то аттракциона. Я счастливо проживаю свою творческую жизнь, она достаточно разнообразна. Но нужно было делать следующий шаг. Невозможно пребывать в такой труппе, в таком прославленном коллективе театра Вахтангова и жить прежними удачами. Самая большая театральная удача – это спектакль «Мадемуазель Нитуш», в котором я 19 лет играю, но в нем нет ощущения, что это спектакль вчерашнего дня. Он любим зрителями, он любим нами. Прежний художественный руководитель Римас Владимирович и директор Кирилл Игоревич Крок мне говорили, что надо найти что-то особенное, непроходную роль, чтобы это было событием, чтобы это был судьбологический перекресток. Я искал режиссера, который отважится со мной на риск. Обращался к некоторым, не получалось. Когда я посмотрел все спектакли Натальи Ковалевой, я понял, что, если она согласится, мы смогли бы этот удар осуществить.
К моему удивлению и радости, она не сразу, но все-таки согласилась, и мы стали искать пьесу. Это был интересный пасьянс, – можно было сыграть и это, и это, я не хотел бы озвучивать названия, потому что, может быть, они мне пригодятся. Но это все было бы «ну хорошо, ну сыграл и сыграл, Саша Олешко, понятно». Нужно было инициировать вызов самому себе, но не скандал ради скандала, хотя в театре это неплохо бывает. Поэтому, когда она случайно мне сказала: «А может быть, Павел Первый?» Я говорю: «Точно!» Это тот самый случай, когда: «Что? Олешко? Ну давайте посмотрим, как он там провалится. Пойдем, посмеемся». Но этого не происходит.
Это абсолютно моя история, я пришел именно с таким предубеждением. Пять минут, десять минут или две минуты, когда вы выходите в этом гриме, в котором вас не узнала возмущенная зрительница, и происходит абсолютное ощущение, что вы имели полное право сыграть эту роль, и вы ее играете. При том, что мне иногда до сих пор снится спектакль с Олегом Ивановичем Борисовым в театре Советской, уже Российской Армии. По поводу грима, по-моему, даже форма носа у вас в этом спектакле другая. Как придумывался этот грим и насколько важно для вас было выйти неузнаваемым?
- Я еще в детстве этим очень увлекался, у меня была еще советская книга «Искусство грима». Я искал, очень просил, чтобы покупали гумоз, из которого лепят носы. Я из каких-то кусочков делал себе усы Чарли Чаплина.
В театре я всегда сам гримируюсь. Но, безусловно, чтобы соблюсти все этические моменты, я сначала сел в кресло нашего главного гримера, художника, с кем мы неоднократно работали, а познакомились в спектакле Роберта Стуруа. Я доверился и говорю, что мне очень нужен внешний вид. Но сезон в театре Вахтангова был насыщенный, было очень много премьер, и она была занята, а мне было необходимо уйти от своей собственной внешности. Я вспомнил, как однажды Людмила Марковна Гурченко открыла секрет, кстати, потом она его открыла публично, что всю жизнь приклеивала себе прозрачную полосочку, чуть-чуть подтягивая кончик носа. Ей подсказали на «Мосфильме», как нужно подтянуть нос, и будет маленький нюанс и уже другое лицо. Я нашел различные лейкопластыри, самые обычные, не для подтягивания чего-то, и нашел точный лейкопластырь, который поддерживает мой не самый изящный нос, и все сразу стало по-другому. Когда я подтянул нос, у меня вместе с ним подтянулись и шея, и голова. Я заказал на телевидении, и мне сшили другой парик, который делал бы лицо более квадратным, но не был тяжелым. Я понял, что нужно просто-напросто запудрить лицо и проявить глаза и впадины, и больше ничего, добавлять уже существо. Это Вахтанговская история – от внешнего к внутреннему.
Когда я поступал в училище, старшекурсники заставляли нас учить стихотворение. Был вечный спор, кто лучше учит: МХАТ, Художественный театр или Вахтанговцы.
Бьет сестру лопатой брат -
Поступает скверно.
«Я пойду тебе во МХАТ!» -
Щукинец, наверно!
Это надо было выучить. Если ты это выучил, значит, ты Щукинец, ты Вахтанговец. Потому что у них школа переживания, а у нас школа представления. Хотите верьте, хотите нет, мне действительно это очень помогает.
Процесс накопления очень серьезного исследования этого человека, которого считали больным и сумасшедшим, а для меня он абсолютно здоровый, вот с этим болезненным лицом. Чтобы не мое лицо, чтобы не было: «Ну, Саша Олешко появился». Нет! Должен появиться Павел Первый или кто-то, играющий его, и все сказали: «А где Саша, он сегодня не выйдет?» Это не ради какого-то эффекта, а шаг в сторону от себя. Он живет отдельно от меня.
Есть же такое понятие: «Вахтанговское»? Оно такое неуловимое, сложно формулируемое, но для меня сегодня Вахтанговское – это дуга между «Мадемуазель Нитуш» и «Павлом Первым». Актер, который может сыграть и это, и это, – и есть Вахтанговское в его живом воплощении?
- Да.
- Не могу не спросить: вы страшную травму пережили во время первого спектакля, уже удалось восстановиться?
- Видите, я пришел на своих ногах, но еще прихрамываю, потому что травма оказалась очень сложной. Во время спектакля, это был первый показ «Павла Первого», произошел взрыв в ноге. Тот самый случай, когда, как говорят, пронеслась вся жизнь. Вот что значит актер, – это что-то такое странное, это все-таки диагноз, ненормальность какая-то. Я произношу текст, продолжаю играть, но вижу, что больше всех, с вопросом и ужасом, смотрит на меня моя партнерша. Она мне потом рассказала, что такого раньше не видела: «В одно мгновение у меня стали какие-то совершенно сумасшедшие глаза, как будто искры полетели». Она говорит, поняла, что что-то произошло. А у меня кинолентой видение: «На эту съемку я не смогу, а вот здесь как мне обыграть это, доиграть то, как мне зайти за кулисы?» Я успел только доиграть сцену, зайти за кулисы, крикнуть: «Скорая!», и без сознания затаиться. Потом лед, холод и так далее, доиграл, а потом оказалось, что это разрыв ахиллова сухожилия. Хирург, который меня оперировал, сказал: «Вы знаете, что от природы и от бога ахиллово сухожилие выдерживает три тонны? Что там с вами сделали, что оно у вас мгновенно лопнуло?» Я это объясняю внутренним напряжением и ответственностью, ну и усталостью. Видимо, я должен был это пройти.
Цитата из вашей роли: «Вот так и вводится постепенно в общество язва моральная, правила безбожные, поведение развратное, как то нам показывает сейчас богомерзкое правление в Европе». Слова, вроде бы, Мережковского, но звучат сегодня невероятно актуально. В вашем спектакле Павел воспринимается во многих ситуациях как совсем не та отрицательная фигура, как когда-то нас учили на уроках в школе. Как вам было сжиться со сложностью этой фигуры?
- Я очень благодарен, что вы выделили эту фразу, потому что именно в этой части у нас были серьезные споры с режиссером. Это нормально, но именно эту фразу я отстаивал. Во время репетиций сцены разговора Павла с сыном Александром я говорю, что мне здесь чего-то не хватает, что-то здесь не то. Режиссер еще является автором инсценировки, и она соединила фрагменты стихотворной пьесы Симонова и придумала, на мой взгляд, очень интересные сцены, когда появляется мать Павла Первого. Мне же чего-то не хватало, я говорю: «Нет, не понимаю, взлет и вдруг какое-то падение, а должен быть взлет». Я приехал домой, перечитал Мережковского, и именно на этой фразе стал настаивать, потому что это абсолютно день сегодняшний, это как будто новости читаешь. Я произношу именно эту фразу, еще делаю таким тоном, что она прямо сейчас показывает: «Богомерзкое правление в Европе».
Я теперь коллекционирую реакции на эту фразу. Либо это гробовая тишина, а один раз в зале кто-то сделал так: «Ах!» Вот в этом чудо и ценность театрального искусства, сегодня и сейчас, по Станиславскому. Как говорила нам Волчек, это «неформулируемая тревога», а теперь она еще и формулируемая. Тебе вдруг объясняют: «Посмотрите, уже все было, и было не раз, и это все опять по спирали происходит». Изучите историю, полистайте эти страницы в обратном направлении и посмотрите, что было там. Вам очень многое станет понятно в дне сегодняшнем, в событиях, в которых мы все живем, переживаем, надеемся, ужасаемся, удивляемся, не понимаем, а оно вон где. Поэтому для меня это было очень важно и принципиально.
Вы почти одновременно сыграли двух исторических героев и двух реальных героев русской истории. В театре Павла Первого и Владимира Ивановича Немировича-Данченко в фильме Карена Шахназарова. В чем разница между театром и кино в игре актера, на этом примере?
- 17 лет назад, когда мне было 30 лет, я сыграл Моцарта в фильме, где режиссером был Дмитрий Брусникин, царство ему небесное. Я сыграл Моцарта в последний год его жизни. Было очень много интересного, много смешного, а самый прекрасный съемочный день был, когда Моцарт умер. Я должен был просто спокойно лежать, но я засыпал, меня весь день будили, говорили: «Стоп-стоп, почему Моцарт так храпит?»
Я слушал очень много музыки, я очень много про него читал. К сожалению, доказать это некому, но поверьте, что так было. Брусникин сказал: «Стоп камера, закончил сниматься Александр Олешко». А потом сказал: «Да, это тот случай, когда актер подготовился больше и лучше, чем режиссер». Может быть, он так комплементарно подчеркнул мою профессиональную ответственность.
Кино от театра тем и отличается, что ты ничего не можешь повторить, все зафиксировано. Когда я смотрю свои интересные работы в кино, я всегда вжимаюсь в кресло: «Ах, здесь надо было по-другому!» Но это уже невозможно. В театре можно, в кино – нет.
У нас есть рубрика «Вопросы наших зрителей» и, если позволите, некоторые из них я задам. Ваше самое яркое впечатление из детства?
- Это цирк, потому что я пришел в цирк и понял, что есть другой мир, яркий и удивительный, и очень честный. Потому что в цирке под фонограмму ты не споешь и в клетку ко львам не зайдешь.
Насколько вы суеверный человек? Есть ли у вас какой-то ритуал перед выходом на сцену?
- Нет, я не суеверный человек, но есть какие-то театральные традиции, есть этика. Я не могу в уличной обуви или одежде выйти на сцену, или перейти кому-то дорогу, или, не знаю, есть семечки. Для меня это место чистое и святое, намоленное большими актерами, актрисами и режиссерами. Для меня это совершенно особенные подмостки.
Планируете ли вы заняться преподавательской деятельностью?
- У меня были такие попытки, лет пять назад я ставил отрывок ребятам в театральном училище. Но первое, что мне говорил Евгений Князев: «Должно все совпасть, и педагог не должен быть педагогом наполовину или по остаточному принципу». То есть «тут я снимаюсь и работаю, а потом, если у меня будет время, я вам попреподаю». Потому что это ответственность. Если ты берешь ее на себя, то ты должен быть вместе с ними и отвечать на их вопросы, помогать им.
Вы прекрасно выглядите, тут я присоединяюсь к вопросу: как следите за собой, делаете ли зарядку?
- Я не делаю зарядку, к сожалению. Я, честно говоря, особо за собой не слежу, я просто много работаю. Я ничего особенного с собой не делаю, мне, наоборот, кажется, что я выгляжу на свой возраст. Просто я много работаю, у меня практически нет выходных дней, и я этому очень счастлив.
Подробнее в сюжете: Театр